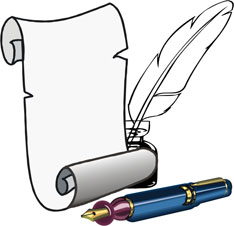Re: цензії
- 11.12.2025|Ольга Мхитарян, кандидат педагогічних наукПривабливо, цікаво, пізнавально
- 08.12.2025|Василь КузанКрик відчаю
- 02.12.2025|Василь КузанНі краплі лукавства
- 27.11.2025|Василь КузанNobilis sapientia
- 27.11.2025|Віталій ОгієнкоРозсекречені архіви
- 24.11.2025|Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, професор«Казки навиворіт»: Майстерне переосмислення народної мудрості для сучасної дитини
- 23.11.2025|Ігор ЗіньчукСвітло, як стиль життя
- 21.11.2025|Тарас Кремінь, кандидат філологічних наукСвітлотіні свободи
- 18.11.2025|Ігор ЧорнийУ мерехтінні зірки Алатир
- 17.11.2025|Ігор ЗіньчукТемні закутки минулого
Видавничі новинки
- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд
- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд
- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд
- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд
- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд
- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд
- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд
- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд
- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд
- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд
Літературний дайджест
В неслыханной простоте
МАРИЯ СТЕПАНОВА считает, что картина общего праздника современной русской поэзии сильно искажена, если не фиктивна.
Принято считать, что русская поэзия переживает сейчас небывалый, необыкновенный расцвет; не так давно кто-то уже сопоставлял ее с Серебряным веком, кто-то аж с Золотым. Я и сама говорила что-то в этом радужном роде, выражаясь, возможно, чуть аккуратней, но радуясь не меньше прочих. И было чему: середина девяностых годов действительно стала чем-то вроде поворота руля.
Все тогда изменилось, словно в старой коммунальной квартире обнаружилась новая, никем не замеченная комната, которую можно обживать и заполнять по своему вкусу. Возможность одновременного существования не трех, не пяти, а пятнадцати-двадцати больших авторских практик казалась невероятной удачей (особенно после стесненности начала девяностых годов, когда у всей поэзии сразу словно ломался голос или кончался воздух; не говорю здесь о нескольких значимых исключениях, которые для меня кажутся скорее подтверждением катастрофичности тогдашнего фона). Вскоре постоянные разговоры о цифрах (шесть у нас хороших поэтов или шестьсот, пятнадцать или двадцать пять) оказались приметой нового десятилетия; но задолго до этого привычной стала уверенность в наличии выбора, товарного ассортимента — есть и ситец, и парча, и то, и это, на любой вкус, цвет и нрав. Ощущение тепла и надежности, которое такая картина дает, вещь естественная и невинная, но возникает оно обычно по другим поводам. Скажем, при походе в районный супермаркет, рай наличия , где отсутствие на полке какой-нибудь гречки должно ощущаться покупателем как зияние, черная прореха в ткани мироздания. Строго говоря, назначение поэзии как раз в том и состоит, чтобы быть такой прорехой, черной дырой, ведущей Бог весть куда и с какими целями, усиливая неуют, и уж если предлагая утешение — то очень специального свойства. Но странно было бы и не порадоваться, не так ли? И вот русская поэзия не просто оказалась хорошей и разной, но и позволила себе это осознать. И тут же, неожиданно для себя самой, превратилась во что-то вроде ВДНХ — праздничную и пеструю панораму собственного изобилия.
Откуда тогда растущая неловкость, ощущение, что картина общего праздника сильно искажена, если не фиктивна? Социальные механизмы функционирования поэзии, как их принято описывать, объясняют и оправдывают существование литературных кланов и союзов, вражду партий, литературную борьбу со всеми ее потерями. Но не ту особенную воспаленность, которая отличает в последние годы любой разговор о стихах, выравнивая по одной гребенке СМИ и блоги. Ее и вправду объяснить нелегко — количество издательств, журналов, площадок для высказывания, поэтических серий огромно, места много всем , а разнообразие не должно бы располагать к горечи: какая вражда может быть у мясного ряда с зеленным, а у павильона «Космос» с «Коневодством»? Но ощущение какого-то неназванного, незамеченного искажения, обиды, несогласия с происходящим становится общим — и оказывается едва ли не той самой точкой консенсуса, о невозможности которой так долго говорили критики. Это чувство — «все не так, ребята» — объединяет эстетические платформы, которым в страшном сне не пришлось бы догадываться друг о друге, и делает союзниками авторов, у которых нет больше ничего общего.
Это накапливается медленно, подневно: сперва по блогам пробегает та или иная ссылка, и все идут на звук — кого-то опять обругали, пришло время читать, обсуждать, занимать и оборонять позицию. Проходит год-полтора, и этим «обругали» уже никого не удивишь — все ругают всех, сама интонация раздражения стала инструментом продвижения на литературном рынке. (Брюзжит — значит, «никого не боится», «имеет право», «говорит с позиции силы» — сила здесь ключевое слово.) Зато болевой точкой становится любая похвала: слова «NN хороший поэт» вызывают молниеносную реакцию: проверить на зуб, убедиться, что поэт плохой, скорей сообщить об этом миру (вырвать занозу.) Тут случаются странные подмены: хороший или, чего доброго, большой поэт в контексте такого разговора о стихах понимается (и отрицается) как лучший, главный, избранник , словно заинтересованный читатель постоянно вымеряет место автора в подспудной, никем не названной табели о рангах, где любое «нравится» поднимает его на несколько невидимых ступенек. Есть и другое: кажется, что похвала (упоминание чье угодно, публикация где угодно), как луч фонаря в темноте, выхватывает чье-то лицо и одним этим оттесняет всех остальных во тьму внешнюю, за пределы зримого мира. Что за этим чувством стоит, кроме общего одичания, всюду видящего длинный рубль или дружескую ногу? Много чего. Отмена конвенций, позволившая наконец видеть в сложном — неудавшееся простое (и говорить о нем с солдатской прямотой). Сама себя стесняющаяся уверенность в существовании единой военной иерархии, большого генерального штаба, который только и может сделать из рекрута поэта. Глубокое недоверие к самой возможности параллельных систем, непересекающихся плоскостей и поэтик, которые не оцениваются по единой шкале. И единое для всех ощущение какой-то огромной несправедливости.
Про изменившийся воздух
На мой вкус, объяснить то, что происходит с нами, дежурным набором внешних обстоятельств, как это принято делать в литературном быту, слишком соблазнительно и просто. Партии, которые расчищают себе место под литературным солнцем, делают это старательно, но как-то не всерьез. Делить им нечего: нет ни площадки, которая могла бы стать предметом спора, ни премии, к которой с равным уважением относились бы все, ни единой аудитории, которой все хотели бы нравиться. В этом смысле ситуация располагает к миру и покою. Но покоя нет, а ощущение неправильности происходящего остается — в том числе и у меня самой.
Для начала, несмотря на все разговоры о том, что интерес к поэзии вернулся или перевернулся, сами стихи (в отличие от поэтов) вдруг перестали интересовать. Исчезло то, что можно назвать резонансом , новые имена, новые тексты падают и пропадают без звука. Видно едва на два-три метра вокруг, зрения еле хватает на ближайших соседей. От растерянности становишься не по-хорошему снисходительным: то, что раньше казалось неприемлемым, оказывается возможным, допустимым, едва ли не симпатичным. Мерещится, что, обжив недавнюю зону риска, территорию решительных действий и больших экспериментов, мы с успехом превратили ее во что-то вроде крупной госкорпорации, где сосуществование регулируется не только набором общих правил, но и подспудным равнодушием к предмету собственных занятий. Поэзия стала профессией, служение службой (ежедневным хождением в департамент) — и никак не может этого пережить.
Оно исчезло на глазах — ощущение осмысленного общего пространства, бывшее главным подарком конца девяностых — начала нулевых. В зоне кромешной неуверенности, на физическом (метафизическом тоже) сквозняке можно существовать, и как раз там поэтическая речь могла бы стать единственным инструментом познания, палкой в руках слепого. Но этого не происходит. Мы уже не наедине с собой, не в слепом пятне, как в начале 90-х, а в хорошо освещенном крупном торговом центре вроде ИКЕА. Сказать (купить, продать) тут можно все, что угодно; значит, без всего этого можно обойтись. Сама ситуация не подразумевает наличия необходимых слов. А стихи, хотелось бы верить, другими быть не должны.
Вместе с воздухом изменилось и все остальное; в первую очередь — сами стихи и то, чего мы от них ждем. Раскрошились конвенции, работавшие десятилетиями и казавшиеся незыблемыми именно в силу своей очевидности: презумпция доверия к автору (он не пытается тебя одурачить), потребность в читательском опыте (цитаты-цикады в тексте хотят быть узнанными), вера в необходимость общей работы текста и того, кто его читает. Сегодня легкая возможность почувствовать себя шарлатаном (в лучшем случае — нелепым шутником) предоставляется каждому автору: «а по-моему, ты говно» — главный модус разговора о стихах.
То, от чего нынче предлагается отказаться — может быть, самое главное: это идея настоящeго читателя, читателя из мандельштамовской статьи «О собеседнике», готового взять на себя дело понимания и со-трудничества. Новая логика предлагает обращаться к читателю с позиций официанта или повара, долг которых — обслужить клиента так, как тому это нравится. Стихи начинают восприниматься не как проводник (в дивный новый или старый мир), а как инструмент. Чего? Немедленного наслаждения, которое читатель уже заработал — просто тем, что согласился раскрыть стихотворный сборник. Главными достоинствами поэтического текста тогда оказываются новые, чужие вещи: энергичность, увлекательность, трогательность, удобство восприятия.
Этот подход должен cработать; из поэзии, как из любого другого материала, можно сделать типовой, массовый продукт. Он будет качественным, он будет радовать сотни неглупых людей и тысячи дураков, он окупится физически и символически. Другое дело — что он отнимает у стихов территорию, которую они занимали с Нового времени: они перестанут быть местом выработки нового, ареной антропологического эксперимента. Отсутствие рынка всегда было поэзии на руку: дешевая в производстве, малопривлекательная для стороннего человека, она сама себя регулировала, сама себя спасала и уничтожала. Отдаваясь на милость читателя, ей придется согласиться на декоративное существование в комфортабельной резервации: без функции, без задачи, — фоновой музыкой для чужой эмоциональной жизни.
Этот способ бытования (с оглядкой на ничей, среднестатистический вкус) делает актуальными стихи, идентифицируемые этим засредненным вкусом как «сильные», — не требующие читательской подготовки, честно и прямо бьющие по глазам. В цене декларативность. В почете сентиментальность и все интенсивное, быстродействующее, лобовое. Повествовательность (в обиход вводятся источники интереса, не связанные прямо с поэтической материей). Форсированные, преувеличенные приемы при крайне облегченном содержании. Юмор, пламенная сатира и снова невинный юмор. Чтобы соответствовать новой роли (нравиться, быть любимым ), поэт должен вести себя как циркач, демонстрируя чудеса ловкости, вращая гири и ловя фарфоровые чашки: в каждой строке по призовой метафоре, а лучше бы по две. Все неочевидное, не поражающее с первого взгляда, тонкое, легкое, зыбкое, многослойное — попросту не воспринимается новым вкусом; у нового читателя плохо настроен звукоулавливатель.
Хорошо бы во всех этих неприятных вещах были виноваты какие-нибудь они — те посторонние, которым так легко предъявлять претензии: плохо пишут, плохо слышат, не так и не то понимают. Беда в том, что эти они — мы, что новый вкус сформировали не глянцевые журналы и не посетители литературных кафе, а мы сами, «я сама».
То, что тревожит и смущает меня-саму в последние несколько лет, я не могу назвать иначе чем опрощением, обмелением стиха. Эта тенденция кажется мне заразительной настолько, что ей почти невозможно противостоять; я вижу ее черты в работе лучших (и самых любимых мною) авторов, вижу и в собственной практике, иначе не стала бы и говорить об этом. Чтобы понять, что я имею в виду, достаточно взять наугад несколько строф из «Элегий на стороны света» Елены Шварц или, скажем, парщиковского «Поля Полтавской битвы» и сравнить их на плотность с лучшими текстами конца нулевых. Предлагаю читателю проделать это самостоятельно; для меня этот урок — очевидный, и хочется только понять, как и почему так вышло.
Мария Степанова ·
Коментарі
Останні події
- 11.12.2025|20:26Книга року ВВС 2025 оголосила переможців
- 09.12.2025|14:38Премія імені Юрія Шевельова 2025: Оголошено імена фіналістів та володарки Спецвідзнаки Капітули
- 02.12.2025|10:33Поетичний вечір у Києві: «Цієї ночі сніг упав» і теплі зимові вірші
- 27.11.2025|14:32«Хто навчив тебе так брехати?»: у Луцьку презентують дві книжки про гнів, травму й силу історій
- 24.11.2025|14:50Коли архітектура, дизайн і книги говорять однією мовою: вечір «Мода шаблонів» у TSUM Loft
- 17.11.2025|15:32«Основи» готують до друку «Бард і його світ: як Шекспір став Шекспіром» Стівена Ґрінблатта
- 17.11.2025|10:29Для тих, хто живе словом
- 17.11.2025|10:25У «Видавництві 21» вийшла друком збірка пʼєс сучасного класика Володимира Діброви
- 16.11.2025|10:55У Києві провели акцію «Порожні стільці» на підтримку незаконно ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців
- 13.11.2025|11:20Фініш! Макс Кідрук завершив роботу над романом «Колапс»