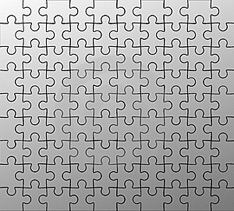Re: цензії
- 03.11.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськІспит на справжність
- 02.11.2025|Богдан СмолякЗахисник Істин
- 31.10.2025|Володимир Краснодемський, журналіст, Лозанна, ШвейцаріяЯк змосковлювали ментальність українців
- 30.10.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськХудожній простір поезії Мирослава Аронця
- 27.10.2025|Ігор ЧорнийПекло в раю
- 20.10.2025|Оксана Акіменко. ПроКниги. Що почитати?Котел, в якому вариться зілля
- 19.10.2025|Ігор Фарина, письменник, м. Шумськ на ТернопілліПобачити себе в люстерці часу
- 19.10.2025|Ігор ЧорнийКовбої, футболісти й терористи
- 19.10.2025|Марія КравчукТретій армійський корпус представляє казку Володимира Даниленка «Цур і Пек»
- 18.10.2025|Тетяна Торак, м. Івано-Франківськ«Кожен наступний політ може стати останнім...»
Видавничі новинки
- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд
- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд
- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд
- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд
- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд
- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд
- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд
- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд
- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд
- Сергій Фурса. «Протистояння»Проза | Буквоїд
Літературний дайджест
Пазл. По ходу чтения
Премия Казакова 2010 года: по ходу чтения и послевкусие. Из записей члена жюри.
Сейчас, задним числом, анализируя ещё и итоги нашей работы, я пытаюсь ответить на вопрос, что такое хороший рассказ. Ну как минимум для членов жюри премии Казакова. Что определяло их выбор? Талант? Профессионализм? Актуальность материала? Новизна?
Читая в качестве члена жюри выдвинутые на премию Казакова рассказы, я, естественно, делал для себя пометки о прочитанном, чтобы составить потом вот этот отчёт, начав его своим — в дополнение к составленному нами лонг-листу — рейтинговым списком из 10—15 лучших рассказов. Но вот как раз это, составление рейтинга, оказалась мне не по силам.
Вроде просто — выбери самое «хорошее» и выстрой рассказы по мере убывания этого «хорошего» в текстах.
Но первый же вопрос: рассказов «хороших» для кого?
И что такое хорошо сегодня?
«Крепко» написанный рассказ? Такие были, и таких много. Но «крепость» такого рассказа часто связана с представлением уже сложившейся в нашей литературе отработанной стилистики.
Скажем, замечательно написаны рассказы Бориса Екимова «Праздник» (Новый мир, № 7) и Владимира Маканина «Ночь… Запятая… Ночь» (Новый мир, № 1).
Однако при этом чтение их вызывает ещё и ощущение, что ты читаешь продолжение уже как бы хорошо освоенного — замечательного, повторяю, — текста под названием «Маканин» или «Екимов».
И когда составлялся шорт-лист, а составлялся он очень просто: члены жюри выставляли каждому рассказу свой балл и в конце работы мы просто складывали их и список лидеров возникал сам. Каких-либо специальных, с использованием критериев дополнительных, то есть политесных (географических, поколенческих, внутрилитературных и прочих), согласований шорт-листа не было.
Разумеется, мы обменивались мнениями, но не более того. Мы исходили из презумпции «эстетической вменяемости» каждого из членов жюри и потому с интересом ждали, что у нас получится.
Разумеется, возможны были варианты этих списков, но, на мой взгляд (как и на взгляд моих коллег по жюри), списки эти действительно репрезентативны для состояния современного рассказа (как минимум в том виде, в котором картину этого состояния представили нам номинаторы — на премию было выдвинуто более ста рассказов).
Так вот, когда составлялся шорт-лист, мы с некоторым удивлением обнаружили, например, отсутствие в нём и маканинского, и екимовского рассказа, это притом, что все мы оценили их достаточно высоко.
И вот сейчас, задним числом, анализируя ещё и итоги нашей работы, я пытаюсь ответить на вопрос, что такое хороший рассказ. Ну как минимум для членов жюри премии Казакова. Что определяло их выбор? Талант? Профессионализм? Актуальность материала? Новизна?
Да разумеется. Но и ещё нечто. Это нечто я бы сформулирован так (пусть и не очень внятно): текст, в котором:
а) возникает образ сегодняшней нашей жизни, в котором передан дух её, и не обязательно в суперсовременных реалиях, а в сегодняшнем нашем мироощущении;
б) рассказ, соответственно, открывающий для нашей прозы отсутствовавшие ранее художественные (эстетические) перспективы.
То, что мы обычно пытаемся выразить ставшим безразмерным определением «актуальная литература».
Шорт-лист
Сказанному выше нисколько не противоречит, например, появление в шорт-листе рассказа Юрия Буйды «Юдо любви». Рассказа, эстетическая новизна которого, строго говоря, относительна, — читая его, вспоминаешь рассказы Буйды 90-х, собранные им в книге «Прусская невеста» (1998), но при чтении которых сегодня оцениваешь эстетическую ёмкость предложенных тогда Буйдой стилистик.
Читая рассказы, написанные сегодняшними молодыми, как правило, прозаиками, слишком часто обнаруживаешь в их текстах уже как бы освоенный нами «художественный дискурс» Буйды 90-х годов. Только перелицованный и, как бы помягче выразиться, опущенный.
Декорирование фантасмагоричными образами социально-психологических типов, порождённых нашим временем, изображением его (времени нашего) жуткой, человеконенавистнической атмосферы стало метой прозы, которую авторы её почему-то считают «патриотической», — прозы надрывно-пафосной, с плачем по утраченному советскому раю.
И бывает, что очень похоже на Буйду, но только с одной поправкой: проза Буйды сориентирована на бытийное, писатель занимается исследованием природы человека.
Эпигоны же сводят предложенный им дискурс в сугубо бытовое, в разборки «кто виноват» и «что делать», уподобляя своего поруганного «социальными контрастами» героя (как правило, «исконно русского человека») некоему дебилу о двух извилинах, не способному отвечать за себя.
В этом контексте проза Буйды выглядит необыкновенно свежо, а художественные интенции её по-прежнему актуальны для нас.
Про национальное
Сегодняшним вариантом обращения художника с остросоциальной тематикой для меня, например, стал рассказ Елены Одиноковой «Жених».
Рассказ, написанный на раскалённом по нашим временам материале — межнациональных отношений. Про таджикских гастарбайтеров и «русских» («русских», которые могут быть и татарами, и кем угодно, но только чтобы в милицейской форме или просто с готовностью бить «чурок» везде и всегда за то, что они «чурки»).
Жёсткость проблемы здесь вполне соответствует психологической жёсткости письма — это рассказ, скажем так, не для слабонервных. Рассказ этот не встраивается ни в одну из существующих сегодня идеологических схем, с помощью которых мы пытаемся разобраться в том, что же на самом деле вокруг нас происходит.
Автор не пытается выяснять, кто тут хуже — «чурки» или русские. И те и другие бывают ужасны, и те и другие бывают люди. Это художественное исследование нашей жизни, а не беллетризованный комментарий к создавшемуся положению.
При всей жёсткости, почти жестокости авторского взгляда (письма) проза Одиноковой одновременно даёт силы смотреть на изображаемое ею.
На реальность жизни, которой в конечном счёте дела нет до наших стенаний, у которой своя логика, до которой мы обязаны дотянуться.
И другой заход, как бы с противоположной стороны, в ту же «национальную проблематику» сделала Алиса Ганиева в рассказе «Шайтанах» (из книги «Салам тебе, Долгат!»), предложившая в своём повествовании — как бы непритязательном, в жанре почти что этнографического очерка — свой образ страны, в которой мы, как многие сейчас с некоторым изумлением выясняют, и живём на самом деле.
Образ страны, который определяют не только сдвиги (и перекосы) «социально-миграционные», но и временные. Сам стиль жизни героев рассказа, сегодняшних дагестанцев, органично вбирает у Ганиевой в себя психологию разных эпох — эстетика мобильников, интернет-общение, предвыборные страсти и т.д. никак не противоречат в их сознании почти средневековым, на взгляд современного горожанина, установлениям жизни.
Понятие национальной традиции оказывается гораздо сложнее, чем нам кажется, и оно принципиально лишено у Ганиевой той дурной однозначности, к которой нас приучают возобладавшие в нашем общественном сознании стереотипы восприятия «национальных отношений».
Рассказ этот выделяется своеобразием авторского взгляда — с одной стороны, взгляда современной молодой горожанки, иерархия духовных и жизненных ценностей которой вполне «интернациональна». А с другой — нет для автора никакой особой (горской, дагестанской или какой-то) экзотики.
Автор знает эту жизнь изнутри, автор чувствует её внутреннюю логику, потому, скажем, так органично выглядит в её прозе неожиданное соседство архаики с нынешним молодёжным жаргоном.
Про историю
Неожиданный эффект производит рассказ Германа Садулаева «Морозовы» (Знамя, № 11) — рассказ как бы «исторический»: история Павлика Морозова, точнее всей семьи Морозовых. Автор здесь не спорит со сложившимися традициями изложения этой истории, ни с советскими (про героя-пионера), ни с антисоветскими (про «доносчика номер один»). Автор их просто игнорирует.
Его притягивает в этой истории бытийное, библейское. И одновременно при чтении этого рассказа у меня, например, возникали ассоциации с борхесовской прозой, то есть, будь автор чуть суше, аскетичнее, жёстче, текст его вполне мог продолжить цикл «Истории всемирного бесчестья», оставаясь при этом вполне садулаевским.
Отталкиваясь («отталкиваясь» — здесь буквально) от реального исторического материала, автор решал свои художественные задачи, но парадоксальным образом атмосфера полуфантастической, под пером Садулаева, истории воспринимается сегодня максимально приближенной к атмосфере реальной истории Павлика Морозова — сужу по монографии английской исследовательницы Катрионы Келли («Товарищ Павлик. Взлёт и падение советского мальчика-героя»), педантично проработавшей, реконструировавшей, очистив её от идеологических упаковок, историю Морозовых по следственным материалам ОГПУ.
Иными словами, «творческий произвол» художника, подчиняющегося только законам эстетического освоения материала, ведёт к реальности самым коротким путём.
К истории, пусть и недавней, но уже истории, обращается в своём рассказе «Подлинная история ресторана «Землянка» Артур Кудашев, создавая свой образ 90-х годов с его типами и жизненными ситуациями.
Историко-авантюрное построение сюжета в этом рассказе накладывается у Кудашева на как бы традиционные стилистики исторического социально-психологического повествования (сочетание, заставляющее вспомнить, скажем, приёмы обращения с историей в тыняновском «Подпоручике Киже»), иронические интонации не убивают, но, как ни странно, подчёркивают наличие в нём того, что принято называть словом «историзм».
Рассказ этот представляет своеобразное продолжение вошедшего в шорт-лист прошлого года рассказа «Красная директория», и по стилистике, и по материалу. Действие обоих рассказов разворачивается в бывшем губернском, а ныне областном — точнее, «республиканском» — городе Арск, отчасти напоминающем Уфу.
Если добавить к этим двум рассказам ещё рассказ Кудашева «Кофе для чайников», в котором вид на Уфу открывается уже из окон современного офисного небоскрёба, то можно сказать, что, решая свои собственные художественнее задачи, Кудашев создаёт ещё и свой образ, свой миф Уфы. И, кстати, делает это не только Кудашев.
Похоже, что на литературной карте России появляется новый город — город Уфа. Сами сюжетные линии рассказа уфимского прозаика Игоря Фролова «Наша маленькая скрипка» (Бельские просторы, № 9, 2010) во многом определяются местом действия — городом Уфой. Герои рассказа, друзья повествователя — местная художественная элита (поэт, начинающая скрипачка, фотохудожник, наконец, сам автор-повествователь), рефлексируют по поводу своей «приписанности» именно к этому городу, они рвутся на культурные просторы (скажем, столичные), но обнаруживают в финале, что простора, предлагаемого им их городом, более чем достаточно.
В жанре своеобразной инвентаризации закреплённых за Уфой фактов истории русской литературы — от Андрея Платонова до Игоря Савельева — написан рассказ Юрия Горюхина «Пазл» (Бельские просторы, № 9, 2010).
Рассказ-лауреат
Неожиданностью, которая на самом деле нас и не удивила, стало абсолютное лидерство во всех наших списках рассказов Максима Осипова [кроме вошедшего в лонг- и шорт-лист рассказа «Москва — Петрозаводск», жюри рассматривало ещё и рассказы «Цыганка» (Знамя, № 11, 2010) и «Маленький лорд Фаунтлерой» (Новый мир, № 1, 2010)].
Дело не в том, что рассказы эти написаны отчасти на «медицинские темы», как бы гарантирующие их востребованность у широкой публики. То есть, конечно, да, но в другом смысле — это рассказы, продолжающие традицию, к которой приучила нас русская «врачебная проза» от Чехова и Булгакова.
Видимо, сама профессия, предполагающая ежедневный контакт с жизнью и смертью, «затачивает» писательский взгляд, лишая его иллюзий, наделяя проницательностью, иногда колющей (Чехова, скажем, некоторые современники считали вообще циником).
И, соответственно, определяет отношения со словом. Там своя система проверки слова на подлинность. Там нет свободного художественного поиска — предполагаются только находки, единственно возможная для выражения своей мысли форма.
Жанр, в котором написан рассказ «Москва — Петрозаводск», можно было бы назвать путевой прозой. Повествователь едет из Москвы в Петрозаводск и наблюдает за своими попутчиками, двумя непонятными для него мужчинами, которые поначалу кажутся ему «гэбэшниками», потом один из попутчиков — вроде как алкоголиком на грани белой горячки, требующим вмешательства в ситуацию врача, в данном случае повествователя.
Однако в ситуацию почему-то вмешивается милиция, избивающая на глазах повествователя и соседей по вагону алкоголика и его товарища; затем, обнаружив оставленные попутчиками сумки в купе, повествователь решает, что это челноки, чем и объясняет для себя активность милиции. Ну а ближе к финалу рассказа повествователь, отправившийся в местное управление милиции искать правду, выясняет, что попутчики его на самом деле убийцы, пытающиеся скрыться после чудовищного даже для видавших виды профессионалов преступления. Но и это не финал рассказа.
Финалом рассказа становится неожиданная исповедь полковника милиции со странным для этого учреждения именем Шлема, рассказ его про своего отца, чудом выжившего в немецком концлагере еврея.
А убийцы, отмахивается милицейский полковник Шлема, люди средние. То есть в человеческом измерении неинтересные. И заворожёнными ими могут быть только шлемазлы (сосунки, не знающие жизни).
Но вот этот процесс постепенного, слой за слоем, снимания покровов, скрывавших от повествователя увиденное им, не становится в рассказе Осипова сюжетом самодостаточным, как у Кортасара в «Слюнях дьявола». Осиповский сюжет скорее улиссовский — в финале повествователь-странник обнаруживает себя как бы в неком новом для него пространстве со своей (более истинной — он чувствует это) иерархией человеческих ценностей, откуда ему, повествователю, уже не хочется возвращаться к себе прежнему, — на вопрос встреченных после визита в милицию соседей по вагону, узнал ли он что про жертв милицейского произвола, повествователь отвечает: нет, не узнал.
За пределами шорт-листа — про Дмитрия Данилова и Елену Долгопят.
Рассказ Дмитрия Данилова «Встреча» (из книги «Чёрный и зелёный»), вошедший в лонг-лист премии, — это новый во многих отношениях рассказ Данилова. Похожесть интонации, в которой написан этот рассказ, на ранние его рассказы не должна обманывать.
Здесь попытка — вполне состоявшаяся, на мой взгляд, — персонификации языка, которым он пишет, в образе героя и в его ситуации. Формулировка звучит излишне витиевато и не очень внятно. Но разговор о прозе Данилова вообще требует особого дискурса. Если бы меня спросили, а чем, собственно, занимается в нашей литературе Данилов, я бы ответил: борьбой с языком. Высвобождением от него.
Единственным инструментом нашего обращения с миром, освоения мира является язык. Мы выстраиваем образ мира, в котором живём, с помощью слов, с помощью образов, закреплённых и этими словами.
При этом мы, соответственно, пользуемся языком готовым, с уже закреплёнными в нём смыслами (и смысловыми штампами). Какими словами мы пользуемся, таков и наш мир. И мир, который мы выстраиваем для себя с помощью языка, закрепляет нас. В известном смысле язык — это наша тюрьма.
Так вот художественная рефлексия по поводу языка, которым мы говорим, которым мы думаем, с помощью которого мы выстраиваем свой мир, а значит, себя, — это как бы грунт, на котором пишет свою странную прозу Данилов.
Нет, разумеется, не он начал эту работу — так или иначе этим занимается каждый писатель. Но не каждый делает этот подспудный сюжет каждого настоящего писателя открытым.
Ну а самым сложным (и завораживающим) для меня — тут я вынужден повторить то, что писал год назад, — оказался рассказ Елены Долгопят «Март» (Дружба народов, № 2, 2010). Рассказ «тихий», без каких-либо атрибутов ярко выраженной «актуальности», но это та «тихость», которая заставляет вспоминать слово «омут».
Изображается день, точнее сутки из жизни странного парня, который навещает мать в больнице, смотрит с её соседками по палате телевизор, потом, направившись домой, видит на платформе электрички приятеля и увязывается за ним в Москву (герой живёт в Подмосковье), потом в кафе он заговаривает со случившимися рядом девушками, получает согласие встретиться вечером в метро, но, поскольку до вечера времени достаточно, идёт зачем-то искать институт, в котором учатся девушки, девушек не находит, но зато выслушивает лекцию о свойствах памяти, затем… и т.д.
Героя Долгопят как бы несёт некий поток, которому он полностью подчиняется, не имея сил, а может, желания жить самому. Вот канва, на которой выстраивает Долгопят свой «сюжет марта», туманного, сырого, безбытного, авитаминозного, идеально подходящего для растворения в его воздухе, его звуках, жестах, запахах. Рассказ (опять же для меня) одновременно и постплатоновский, и постказаковский. И при этом — абсолютно долгопятовский.
Ну и как — я возвращаюсь к тому, с чего начал, — ну и как, с помощью каких критериев сравнивать вот эти рассказы? Какой линейкой мерить их, чтоб выстроились они в единый ряд?
Именно поэтому главным итогом премии Казакова я, например, считаю лонг-лист из шестнадцати лучших, по мнению членов жюри и номинаторов премии, рассказов года. Вот эта микроантология как раз и представляет уровень и эстетику современного рассказа. К нему бы я и отослал читателя.
Сергей Костырко
Коментарі
Останні події
- 03.11.2025|18:29Оголошено довгий список номінантів на Премію імені Юрія Шевельова 2025: 13 видань змагаються за звання найкращої книжки есеїстики
- 03.11.2025|10:42"Старий Лев" запрошує на майстер-клас з наукових експериментів за книгою "Енергія. Наука довкола нас"
- 03.11.2025|10:28Юлія Чернінька презентує «Бестселер у борг» в Івано-Франківську
- 02.11.2025|09:55У Львові вийшов 7-й том Антології патріотичної поезії «ВИБУХОВІ СЛОВА»
- 30.10.2025|12:41Юний феномен: 12-річний Ілля Отрошенко із Сум став наймолодшим автором трилогії в Україні
- 30.10.2025|12:32Фантастичні результати «єКниги»: 359 тисяч проданих книг та 200 тисяч молодих читачів за три квартали 2025 року
- 30.10.2025|12:18Новий кліп Павла Табакова «Вона не знає молитви» — вражаюча історія кохання, натхненна поезією Мар´яни Савки
- 30.10.2025|12:15«Енергія. Наука довкола нас»: Старий Лев запрошує юних читачів на наукові експерименти
- 29.10.2025|18:12В Ужгороді започаткували щорічні зустрічі із лауреатами міської премії імені Петра Скунця
- 27.10.2025|11:2010 причин відвідати фестиваль «Земля Поетів» у Львові