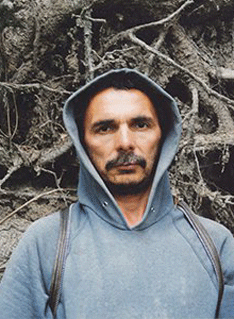Re: цензії
- 05.11.2025|Віктор ВербичКоли життя і як пейзаж, і як смерть
- 04.11.2025|Дана ПінчевськаГаличани та духи мертвих: історія одного порозуміння
- 04.11.2025|Надія Гаврилюк“Перетворює затамування на захват”: поезія Богуслава Поляка
- 03.11.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськІспит на справжність
- 02.11.2025|Богдан СмолякЗахисник Істин
- 31.10.2025|Володимир Краснодемський, журналіст, Лозанна, ШвейцаріяЯк змосковлювали ментальність українців
- 30.10.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськХудожній простір поезії Мирослава Аронця
- 27.10.2025|Ігор ЧорнийПекло в раю
- 20.10.2025|Оксана Акіменко. ПроКниги. Що почитати?Котел, в якому вариться зілля
- 19.10.2025|Ігор Фарина, письменник, м. Шумськ на ТернопілліПобачити себе в люстерці часу
Видавничі новинки
- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд
- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд
- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд
- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд
- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд
- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд
- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд
- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд
- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд
- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд
Літературний дайджест
Малек Яфаров: «Гражданином можешь ты не быть, а философом — обязан»
«Литература online». В чём смысл жизни и какая может быть от философии польза?
Я думаю, что сегодня как никогда очевидно, что смысл жизни заключается в ней самой; жизнь — это бесцельный полёт.
Философ Малек Яфаров — один из главных авторов сетевого литературно-философского журнала «Топос», которому в этом году исполняется 10 лет.
Для «Топоса» Яфаров, считающий себя учеником Мераба Мамардашвили, написал десятки эссе, обобщающих опыт русского философствования, опубликовал несколько подборок философских анекдотов, повествование о Сократе и книгу о Гоголе. Тема русской литературы, как известно, заменяющей в России философию, одна из важнейших для Яфарова. Именно поэтому он много думает и записывает тексты как о классиках, так и о современных рецепциях классического наследия. Малек — принципиально внесистемный человек, занимающийся философией не профессионально, но сущностно, жизнью своей доказывая правоту собственных выкладок. А как иначе? Ведь философ похож на естествоиспытателя, проверяющего правильность теории единственно возможным практическим образом — соответствуя своим идеалам.
— Многие считают, что философия — нечто отвлечённое, не имеющее никакого отношения в жизни. Есть и противоположное мнение — философия является сутью жизни.
— Философия занимает то место в жизни человека, которое он ей отводит: тот, кто отделяет философию от своей повседневности, лишает свою повседневность философии; тот, кто полагает философию своей повседневностью, лишает философию повседневности. Философия прежде всего — это реальный жизненный опыт и только потом, как его результат, понятия и концепции; без учёта этого философия превращается в странное манипулирование словами.
Для меня философия распростёрта, протянута на весь континуум жизни, поэтому философия и как суть, и как повседневность — это две стороны одной медали; философский тезис, чтобы быть живым, должен дотягиваться до анекдота, повседневного случая, эпизода, иначе в нём нет живого смысла.
— Какая может быть от философии польза в реальной жизни?
— Философия преобразует полезность «реальной жизни» в единственную пользу — реальность переживания себя живым, по правилу Демокрита: «Каждое ощущение возникает и существует по истине». Тот, кто научится это делать, то есть находить в себе живое, самим собой пережитое, и следовать ему, тот и будет философом, живым мудрецом, извлекающим из реальной жизни жизнь как реальность. Философия может помочь человеку набить свои карманы жизнью.
Гоголь называл это умение «наука весёлой и счастливой жизни», в которой человек не убегает от неё, испугавшись интенсивности и непредсказуемости переживания.
— Я правильно понимаю, что те, кто не интересуются философией, живут не в реальности? А где тогда?
— Все живут в реальности, но в реальности того, что для них живо. Человек не может жить тем, что для него мертво, не может полностью ограничиваться «условиями пространства, времени и причинности», по определению Толстого; так омертвевшая русская государственность заставляет чиновника оживать воровством, так ребёнок, сидящий перед тарелкой ненавистной ему каши, с любопытством смотрит в окно.
— Я знаю, что многие побаиваются приступать к изучению философии — первый шаг, он самый сложный, трудный. С чего бы вы посоветовали начинать? И как систему философского чтения выстраивать? Какие имена и в каком порядке?
— Для того, кто «побаивается» философии, возможно, самым продуктивным будет попытаться почувствовать, в чём именно смысл его страха, внимание к своему страху и станет для него первым философским шагом. Тому же, кто бросается в философию с головой, стоит обратить внимание на то, от чего он, собственно, убегает, тогда, скорее всего, окажется, что его так сильно тянет в философию потому, что она наиболее далека от источника его страха, — и это шаг. На мой взгляд, самым простым введением в философию может стать избранное чтение классики, начиная с античности: Демокрит, Пифагор, Протагор, Гераклит, Платон; из Нового времени: Декарт и кто-нибудь ещё на удачу; из новейших: Ницше, Витгенштейн, Мамардашвили; для начала этого более чем достаточно. Главное правило чтения: слушать не имена, термины, концепции, а другого человека.
— Как вы бескомпромиссно подошли к своему списку! Я бы делал его более щадящим: первачам важно подсовывать литературно богатые тексты, адаптирующие большую традицию, — скажем, Монтеня или Кьеркегора…
— Предпочитаю традицию ясности и простоты, какой бы философ к ней ни принадлежал; вводить в философию новичка за руку — значит с самого начала опираться на его слабость, воспитывать в нём опору на авторитет; литературно богатые тексты хороши для расширения и углубления уже имеющегося горизонта, а вот ясность и простота этот горизонт как раз и задают. Первый реальный живой опыт философствования связан у меня с Мерабом Константиновичем Мамардашвили, и поэтому первое время я видел философию его глазами: Декарта, Канта, Пруста, Пятигорского, Платона, по мере внутреннего взросления я открывал для себя Демокрита, Лейбница, Хармса, Кастанеду, Шнитке, Серафима Саровского; сейчас мне интересно всё пространство мысли в её «бесцельном полёте», по словам Блока.
— Вы намеренно ввели в список философов писателей и композитора?
— Я ответил на ваш вопрос, профессиональная же принадлежность того человека, общение с которым стало для меня важным, имеет второстепенное значение. Впрочем, любая чрезмерная замкнутость, ограниченность рамками своей профессии приводит к профессиональной деформации и деградации, поэтому философ, а вместе с ним и философия, могут развиваться только в широком культурном контексте.
— Я-то таким образом хотел плавно перейти к вашим литературным и музыкальным интересам. Это важный момент, тем более что в России именно литература и музыка выполняли функцию несформированной философской системы.
— Не думаю, что литература и музыка восполняли некий недостаток философии, дело в том, что искусство на Руси не может не быть философским в силу специфики русской культуры, внимание которой направлено на единство всего живого.
Русский художник в широком смысле слова — скульптор, живописец (иконописец), музыкант, писатель — априори не ограничен рамками своего «занятия», «профессии», «дела», поскольку он, как русский, должен как раз преодолеть свою отдельность в единстве всего. Вспомните «Явление» Иванова, «Прощальную повесть» Гоголя, «опрощение» Толстого, «общее дело» Фёдорова, смысл и значение которых выходят далеко за рамки картины, повести, призыва, тезиса. Каждое значительное «произведение» русской культуры — это целостный феномен, в котором его принадлежность к тому или иному виду искусства имеет частное значение.
— А незначительное?
— Чем больше мы наполняем плоть и толщу нашей жизни самими собой, тем более призрачной, бледной, бессодержательной и незначительной она становится для других; когда мы, русские, заняты своей отдельностью, как, например, в девяностые и нулевые, наша общественная жизнь сужается, лишается глубины и движения. Если же нам удаётся «уснуть для себя» и «забыться другим», горизонт нашего внимания расширяется, скорость восприятия резко ускоряется и мы становимся способны к «бесцельному полёту в сияющей ночи», как это было после двух отечественных войн. — Что такое «уснуть для себя»?
— «Уснуть», «забыться», «задремать» — это специфически русская феноменология, особая технология внимания, которая присуща русской культуре: Гоголь называл её «полусон», Толстой — «забытьё», «Блок — «дрёма», я называю её «живой сон». Особенность русской технологии внимания заключается в том, что посредством неё человек достигает состояния равнозначности всего разнообразия существующего, равности всех его элементов, от самых малых до самых больших. У того же Гоголя в «Вие» русское лукоморье «спит с открытыми глазами» и «смотрит с закрытыми глазами». Русское забытьё отличается от феноменологической редукции западной культуры тем, что на Западе редуцированная реальность выстраивается в отношении предметного положения в ней человека, внимание которого направлено именно на установление, фиксацию своего положения, на Руси — равнозначность элементов в отношении проявляющейся стихии становления, на которую направлено внимание русского, который «забыл», «уснул» для себя, но внимает тому, что «говорит» ему жизнь. Если проще, то русский, как Емеля, заключил договор с жизнью: в обмен на то, что он направляет своё внимание не на себя, а на жизнь, жизнь «выполняет» его желания; «по щучьему велению, по моему хотению», то есть жизнь делает то, что я хочу, а я хочу то, что делает жизнь.
— Как «живой сон» влияет на особенности русской философии? Какой вам видится русская философская традиция? Она есть или правильнее говорить о философствовании?
— Несомненно, русская философская традиция существует, по крайней мере пока существует преемственность русской культуры, более того, она не только существует, но и развивается, несмотря на постоянное давление прежних идеологических режимов раньше и полное игнорирование философии безыдейной властью сегодня.
В связи с русской матрицей единства русская философия с самого начала своего возникновения не могла быть завязана только на профессию философа. Перефразируя известное выражение, на Руси «гражданином можешь ты не быть, а философом — обязан». Решающими формами бытия русского в XVII, XVIII, XIX и даже XX веках были формы литературы, поэзии, театра, философии, живописи, музыки, религии, идеологии, а не отдельности каждого, поэтому, кстати, так слабо развиваются у нас гражданские институты. Русские — феноменальный народ. Русский «живой сон», «дрёма» — это удерживание внимания на единстве. Гоголь определял это так: «вся страна — один человек», поэтому если в стране есть философия, то каждый русский — философ, а вот отдельного философа — нет (как культурного явления). — В каком состоянии находится современная русская философия сегодня? — А что ему нужно знать из русской культуры, кроме того, что вы уже перечислили? Есть ли у русской традиции какие-то свои оригинальные темы или уникальный опыт? своеобразие которого в невероятной скорости движения, позволяющей практически бесконечно «рассматривать», переживать каждое мгновение мира. Чудовищно быстрый и бесцельный полёт русского не только «показывает» ему творение каждого мгновения, но и позволяет его волить. Ни в одной современной культуре, кроме русской, не сохранилось воление жизни как творения, Толстой называл это воление жизни «привычное от вечности», именно в нём заключался для него смысл «опрощения»; Гоголь волил величие и торжество смерти, возвращая её в величие и торжество жизни; Достоевский находил живое даже в подполье захлопнувшейся в футляре души. Другие культуры не так быстры, поэтому могут отслеживать и фиксировать только уже сформировавшуюся предметность существования и, соответственно, могут волить только предметные взаимодействия. — Да, кстати, а что происходит с философией сейчас на Западе? — Читая современные философские тексты, обращаешь внимание, что подавляющее большинство из них — рефлексии на полях классических текстов. Нынешние философы (как, кстати, и композиторы) вышивают крестиком на полях великих трактатов. Это происходит оттого, что лучше великих уже не скажешь, или потому, что повестка дня исчерпана? — Последним мощным философским выхлопом оказался французский постструктурализм. Но, как стало очевидным, и он быстро выдохся и сошёл со сцены. Самоликвидировался. Деконструировался. Почему? И что ждать от западной философии дальше? Во-первых, одной из самых лучших мировых школ буддологии является русская школа: Розенберг, Щербатской, Пятигорский и другие, эту школу можно признать формой сотрудничества, так как благодаря пристальному всматриванию в буддистскую философию русские создали основание для понимания самих себя; это «скрытое», неявное, но всё же сотрудничество. Другой пример: на Западе получили широкое распространение различные йогические и созерцательные техники Востока, пусть и воспринятые слишком предметно, слишком по-западному. Или, в-третьих, возьмём распространение русской литературы как специфического культурного феномена и на Западе, и на Востоке. Процесс более открытого взаимодействия начался не так давно, но уже набрал ход, и совместная работа сотен учёных из разных стран на Большом адронном коллайдере — только начало будущего взаимодействия. — Читатели вам пеняют: почему вы всех критикуете? Даже Канта! Даже Гуссерля! Нечто право имеете или самоутверждаетесь таким образом? — Кого вы видите в своих учителях и предшественниках? На какую традицию ориентируетесь? спрашивая ничего взамен, у которой нет предела, ограничения, кроме ограничения моего намерения, которая наполняет меня любовью, торжеством и величием, сколько я могу понести, болью, печалью и ужасом, сколько я могу выдержать. Философ, ориентирующийся на кого-то, перестаёт быть философом по определению философии как стремления к мудрости. — А как вы относитесь к религии? — И, пожалуй, последний вопрос: в чём, на ваш взгляд, смысл жизни (если, конечно, он есть)? Беседовал Дмитрий Бавильский
— В благоприятном, поскольку, во-первых, философия перестала испытывать идеологическое насилие и даже давление со стороны власти, во-вторых, быстро формируется единое информационное пространство в различных его модусах, прежде всего модусе Всемирной сети; в-третьих, значительно расширилось наше взаимодействие не только с современными нам культурами — Запада, Востока, арабского мира, но и с уже умершими древними цивилизациями через появившийся благодаря инету доступ к оставленному ими наследию, в-четвёртых, философией сейчас действительно может заниматься каждый. Есть и некоторые трудности, прежде всего размывание русской специфики из-за резкого наплыва информации, полученной и осмысленной в культурах другого типа. В результате чего русский философ хорошо знаком с западной, восточной и другими культурами, но почти не знает свою, русскую.
— Русская традиция — это и есть уникальный опыт мировосприятия,
— Западная философия в силу специфики своей культуры слишком подвержена доминирующему в обществе тренду, поэтому самым трудным для неё оказывается удерживать своё внимание от поглощения постоянно разрастающейся предметностью. В силу этого наиболее ценным философским опытом на Западе является опыт извлечения смысла из бешено несущейся вперёд деятельности. Извлечённый смысл удерживает западную философию от бесконтрольного расширения и потери идентичности, не даёт ей «бежать слишком далеко впереди паровоза»; таков опыт Демокрита, Декарта, сегодня следует ожидать извлечения кем-то смысла из опыта Нового времени. Скорее всего, это будет не личное, а консолидированное извлечение, может быть, даже в сотрудничестве с философами других типов культур. На Востоке, начиная с буддизма, медленно, но верно идёт процесс перестройки всего наследия древнего созерцания в направлении поставленной буддизмом задачи — прекращения фиксации не только на «тьме», но и на «свете», то есть задачи прекращения какой бы то ни было фиксации вообще, даже в форме «просветления». Вызов Будды настолько грандиозен, что даже его осознание, не говоря уже о принятии и следовании ему, требует колоссальной культурной работы; сегодня этой работе очень поможет тесное взаимодействие с другими культурами, которое заставит Восток утвердиться в таком направлении своего внимания.
— Слишком сильное общественное давление последних двух тысячелетий сформировало у современного человека комплекс неполноценности, ущербности, несовершенства. Не избежала этого комплекса и философия; она боится ставить перед собой грандиозные задачи, ограничиваясь в основном проблемами выживания. Поэтому древние философы кажутся такими великими, а современные — такими... ущербными. Как только современный человек освободится от своего комплекса, ему откроется его действительное величие; уже сегодня это освобождение можно наблюдать во многих естественных науках: астрономии, астрофизике, биологии, акцентирующих внимание на совершенстве мира. Как только русская философия поставит себе целью «лететь, как этот шар, бесцельно в сияющей ночи», а не разрабатывать «гуманистические аспекты генной инженерии» или «некоторые вопросы раннего творчества философа Х», то унылая необходимость конспектирования чьих-либо текстов отпадёт сама собой. Каков философ, такова и повестка; как приколешься, так и потащишься: в том-то и дело, что человек может быть единым и со вселенной, и с подвалом. Выбор всегда за ним.
— Все основные «выхлопы» западной философии последних двух столетий были продуктами работы силовой установки трансцендентальной философии, так что следует ожидать прежде всего смены типа двигателя с уже выработавшего свой ресурс трансцендентального на новый «гибридный», то есть совмещающий в себе достижения всех культур современной индоевропейской цивилизации: западной, восточной, русской. Эта работа уже началась: Запад охотно сотрудничает с Востоком и нами, Восток — с Западом и нами, а мы — с Западом и Востоком. Так что основным направлением развития современной философии будет взаимодействие, консолидация различных типов внимания в единстве совершенного мышления. Две таких смены мы знаем хорошо: Античность на Средневековье, Средневековье на Новое время. Что касается «сотрудничества», то, пожалуй, я могу привести пару примеров.
— Решающей задачей моих размышлений является направить и удержать внимание на достигнутом совершенстве мышления, которое в трансцендентальной философии зашло в тупик опредмечивания способности фиксации. Поэтому и Кант, и Гуссерль, и Сартр, и Хайдеггер оказались запертыми в горизонте фиксирующей способности человека. Меня фамилии, звания, всеобщее мнение, впрочем, как и моё собственное мнение, право, самоутверждение, интересуют намного меньше, чем существо дела; например, Демокрита, Декарта, Ньютона я не критикую потому, что их мышление совершенно. Конечно, сейчас, как результат удержанного внимания, сформировалось намерение совершенства, и оно работает само, без усилия, поэтому такой необходимости «защищать» чистоту своего внимания у меня уже нет, так что почти нет и критики.
— Я уже отвечал на этот вопрос: традицию простоты, ясности, наивности, несомненности, кто бы её ни представлял: античный философ или моя мама. В этом смысле единственным моим учителем является, по словам Пастернака, «одна и та же жизнь», которая наполняет меня собой, не
— Религия, во всём разнообразии её форм, — один из самых существенных культурных феноменов, обозначивших взросление современной цивилизации и сыгравший решающую роль в становлении современного человека. Религиозный опыт отложен в нас как наше мировосприятие, без него мы были бы совершенно другими; он стал основой современности, и, опираясь на этот опыт, мы двигаемся дальше по древнему правилу: «будьте совершенны». Этот опыт имеет значение и для меня: проросшее горчичное зерно дало свой плод: по словам поэта, «вселенная — во мне»…
— Вне жизни ничего нет, поэтому единственным смыслом жизни является она сама. Другое дело, что человек, отделив себя от всего остального, может полагать себе как особому существу некие внешние цели: разумные, благородные, светлые или, наоборот, иррациональные, мрачные, тёмные. Такому человеку, чтобы чувствовать себя живым и находить в своей жизни смысл, как «человеку из подполья» Достоевского, остаётся следовать своему хотению как выражению целостности себя, а это хотение может быть очень странным, эксцентричным или даже диким. Кто не отделил себя от жизни всего, тому всё — трын-трава, он принимает жизнь во всей её полноте. Я думаю, что сегодня как никогда очевидно, что смысл жизни заключается в ней самой; жизнь — это бесцельный полёт.
Коментарі
Останні події
- 05.11.2025|18:42«Столик з видом на Кремль»: до Луцька завітає один із найвідоміших журналістів сучасної Польщі
- 04.11.2025|10:54Слова загублені й віднайдені: розмова про фемінізм в житті й літературі
- 03.11.2025|18:29Оголошено довгий список номінантів на Премію імені Юрія Шевельова 2025: 13 видань змагаються за звання найкращої книжки есеїстики
- 03.11.2025|10:42"Старий Лев" запрошує на майстер-клас з наукових експериментів за книгою "Енергія. Наука довкола нас"
- 03.11.2025|10:28Юлія Чернінька презентує «Бестселер у борг» в Івано-Франківську
- 02.11.2025|09:55У Львові вийшов 7-й том Антології патріотичної поезії «ВИБУХОВІ СЛОВА»
- 30.10.2025|12:41Юний феномен: 12-річний Ілля Отрошенко із Сум став наймолодшим автором трилогії в Україні
- 30.10.2025|12:32Фантастичні результати «єКниги»: 359 тисяч проданих книг та 200 тисяч молодих читачів за три квартали 2025 року
- 30.10.2025|12:18Новий кліп Павла Табакова «Вона не знає молитви» — вражаюча історія кохання, натхненна поезією Мар´яни Савки
- 30.10.2025|12:15«Енергія. Наука довкола нас»: Старий Лев запрошує юних читачів на наукові експерименти