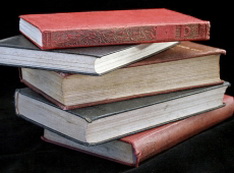Re: цензії
- 05.11.2025|Віктор ВербичКоли життя і як пейзаж, і як смерть
- 04.11.2025|Дана ПінчевськаГаличани та духи мертвих: історія одного порозуміння
- 04.11.2025|Надія Гаврилюк“Перетворює затамування на захват”: поезія Богуслава Поляка
- 03.11.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськІспит на справжність
- 02.11.2025|Богдан СмолякЗахисник Істин
- 31.10.2025|Володимир Краснодемський, журналіст, Лозанна, ШвейцаріяЯк змосковлювали ментальність українців
- 30.10.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськХудожній простір поезії Мирослава Аронця
- 27.10.2025|Ігор ЧорнийПекло в раю
- 20.10.2025|Оксана Акіменко. ПроКниги. Що почитати?Котел, в якому вариться зілля
- 19.10.2025|Ігор Фарина, письменник, м. Шумськ на ТернопілліПобачити себе в люстерці часу
Видавничі новинки
- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд
- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд
- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд
- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд
- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд
- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд
- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд
- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд
- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд
- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд
Літературний дайджест
О социалистическом литературоцентризме
Норвежская методика государственной поддержки литературы в России неприменима. СТАНИСЛАВ ЛЬВОВСКИЙ объясняет, почему и как к этому следует относиться.
Всем известные печальные цифры таковы: в 2010 году объем книжного рынка в России сократился более чем на 8%. Рост средней зарплаты составил при этом 14,85%, а книги подорожали только на 12%, из чего эксперты делают вывод о том, что дело не в недоступности книг, а в снижении интереса к чтению как таковому. TNS Russia также объясняет, что доля чтения книг в медиапотреблении в 2008 году составляла 4%, а в начале 2011-го упала до 1,8%. Что бы мы ни думали о причинах такой динамики и об аккуратности замеров, статистика эта, широкотиражируемая медиа, выглядит довольно устрашающе.
Итоговый показатель — среднестатистический житель России читает примерно две с половиной книги в год (сходите потом по ссылке, там еще много любопытного). Прямо скажем, это совсем немного. 35% населения книги не читают вообще.
Между тем в двух с половиной часах лету от Москвы находится страна, где книги, по состоянию на 2009 год, читают 93% населения (в 2005-м был 91%). 40% населения этой страны читают больше 10 книг в год, а 14% — больше 30. Средний житель этой страны читает 18 книг в год, а 80% родителей читают своим детям каждый день или не менее трех дней в неделю. В 2007 году книг в этой стране было продано 20 миллионов экземпляров — при населении в пять миллионов человек. Речь, как некоторые уже, наверное, догадались, о Норвегии.
Прежде чем рассказать, как это получилось, то есть откуда эти показатели (которые выглядят, признаемся, не слишком правдоподобно) взялись, нужно сделать две оговорки. Во-первых, автор этих строк не является поклонником активного вмешательства государства в жизнь граждан — в том числе, разумеется, и в культурную сферу. Однако даже на меня норвежская история произвела, прямо скажем, сильное впечатление — и, не будучи догматиком, я полагаю, что соотечественникам, не занятым в книгоиздании и книгораспространении, с норвежским методом тоже было бы неплохо ознакомиться. Во-вторых, я полагаю, что к России, по крайней мере к нынешней России, метод этот, увы, неприменим. О том, почему — в последней части текста.
Начать придется с первой половины шестидесятых, когда норвежцы озаботились тем, что молодых писателей появляется мало, книг — во всяком случае интересных — тоже выходит мало. Общественность и правительство сочли, что для такого небольшого языка (в 1960 году норвежцев было всего три с половиной миллиона) это угрожающая ситуация. На самом деле таких небольших литератур и языков не так уж мало, но, говоря о Норвегии, следует помнить, что в качестве независимого государства в современном понимании она существует с 1905 года, когда была разорвана уния со Швецией. И я подозреваю, что это сыграло свою роль в возникновении политики, о которой мы говорим.
Для начала была принята программа закупок современной литературы, которая сначала относилась только к литературе художественной, а позже в нее, программу, вошел и non-fiction . Это означает, что государство закупает по тысяче экземпляров в год двухсот наименований плюс по 1550 экземпляров книг для детей и подростков. Это, заметим, при том, что средний тираж книги в Норвегии — 2500 экземпляров. Деньги платятся вперед, до публикации, а после публикации производится экспертная оценка, и, если она оказывается относительно данной книги отрицательной, издательство возвращает деньги. Это, по словам редактора издательства «Колон» и бывшего организатора поэтического фестиваля в Осло Бьерна Огенеса, случается не часто, но и не то чтобы редко. Он называет показатель в 8%, но данные эти неофициальные. На мой вопрос о том, не искажает ли эта система естественную ситуацию, которая сложилась бы на рынке в отсутствие экспертного совета (в него входят писатели, издатели, теоретики литературы), Огенес отвечает, что мы говорим о культуре, — и не совсем ясно, что тут считать естественной ситуацией. Андрин Поллен, сотрудница норвежского литературного агентства NORLA (о нем подробнее ниже), указывает на то, что в соседней Швеции, где системы государственной закупки книг не существует, книгоиздание существенно более коммерциализировано.
В течение примерно десятилетия после введения системы госзакупок литературы количество дебютных книг существенно выросло и стабилизировалось. Литературный норвежский социализм, однако, госзакупками не исчерпывается. Норвежский метод включает в себя еще несколько базовых составляющих. Во-первых, НДС книжные издательства не платят. Во-вторых, цены на книги — фиксированные. Ну, не совсем фиксированные. В течение года после публикации (до мая года, следующего за публикацией) книгораспространители (будь то издательства или книжные клубы) могут снизить цену на книгу только в пределах 12,5%. По истечении этого срока цена становится свободной.
Мало того, авторский договор в Норвегии — тоже стандартный. Согласно этому самому стандарту, автор получает фиксированные роялти (20% для художественной литературы, 15% для non-fiction ). Стандартный процент с продаж получает и переводчик. Однако величина гонорара определяется при этом исключительно автором и издательством и никак не регламентируется. Важно знать, что, по сути дела, в издательской отрасли страны имеет место олигополия: несмотря на то что в ассоциацию книгоиздателей Норвегии входит 90 издательств, рынок контролируется тремя: CappelenDamm , Aschehoug и Gyldendal . Эти трое публикуют всех наиболее известных норвежских авторов в диапазоне, условно говоря, от Ларса Соби Кристенсена до Юна Несбё.
Рой Якобсен — автор, в частности, переведенных на русский язык романов «Ангел зимней войны» («Иностранка», 2008) и «Чистая вода» («Махаон», 2006) — полагает, что эта система работает отлично, однако отмечает, что таким образом государство субсидирует и издание бестселлеров, с которыми издательства, вообще говоря, прекрасно справились бы сами. В ответ на мой вопрос о том, как он изменил бы эту систему, Якобсен пожимает плечами: норвежский метод хорошо работает, в этой стране больше всего на свете писателей, которые могут жить плодами своего труда, то есть работая только писателями, не отвлекаясь на преподавание или что-либо другое.
Это правда, — хотя, разумеется, даже при норвежском социализме многим писателям приходится заниматься чем-то еще. В частности, Эрленд Лу в интервью (которое мы опубликуем чуть позже) признается, что начал изучать сценарное мастерство именно из тех соображений, что сценарии — куда более стабильный кусок хлеба, чем проза.
Еще одной, сравнительно независимой, но важной частью системы является норвежское литературное агентство NORLA , основанное в 1978 году. Это, коротко говоря, организация, поощряющая экспорт современной норвежской литературы за рубеж — путем субсидирования переводов как художественной литературы, так и нон-фикшн. Гранты бывают двух типов (собственно на перевод всей книги или на перевод части текста в рекламных целях) и выделяются по преимуществу не индивидуальным переводчикам, а издателям. Кроме того, агентство выделяет гранты на поездки норвежским авторам и их переводчикам, организует участие Норвегии в книжных ярмарках и так далее. Чтобы был понятен масштаб деятельности: за четыре последних года NORLA ежегодно получает более тысячи заявок на гранты, из которых в позапрошлом году было удовлетворено двести, а в прошлом — триста. По словам Андрин Поллен, дотирование переводов и агрессивный экспорт литературы крайне важны. Она ссылается на доклад международного ПЕН-центра под названием «Быть переведенным или не быть» (To be translated or not to be) ), опубликованный в 2007 году. Несмотря на глобализацию и, казалось бы, увеличивающееся взаимопроникновение культур, общее количество переводов в мире неуклонно снижается, а основная игра идет в одни ворота, то есть основная доля — это переводы с английского на другие языки.
NORLA , впрочем, никогда не дает 100% финансирования (на самом деле не более пятидесяти), полагая, что стопроцентное финансирование приведет к ситуации, когда книги норвежских авторов будут переводиться, но не будут продаваться. Как раз в смысле стимулирования продаж агентство и выделяет авторам средства для посещения книжных ярмарок, фестивалей и других мероприятий за границей.
Когда смотришь на все это въяве, в смысле на норвежских писателей — как они живут, на «Литературный дом» в центре Осло (три этажа, один из которых предоставляет писателям бесплатно тихие рабочие места), на посольство, которое за свои деньги таскает русских журналистов в Норвегию, — трудно, конечно, не думать о том, какие мы тут все бедные зайки. Ну, не все, но в основном — да, зайки, да, бедные, чего уж. Не только писатели, но и читатели, издатели, критики со чады и домочадцы. И не в смысле даже денег мало — их всегда мало, — а в смысле никто о нас не заботится. Ну, есть фонд «Русский мир», да, можете полюбоваться, — но вообще-то мы сами по себе.
Это обидно, да, — но ничего плохого (по крайней мере, здесь и сейчас) тут нет. Нынешняя ситуация гораздо лучше той, в которой государство внемлет заклинаниям Германа Садулаева в том смысле, что «писатели для народа — это как армия. Народ, который не хочет кормить своих писателей, будет кормить чужих». Норвежский метод в нынешней России внедрить никак не возможно. Довольно быстро окажется, что сладких пряников на всех не хватает, а хватает их, правильно, на Владимира Крупина и Марину Юденич. Можно подумать, нам Н.С. Михалкова в кинематографе не хватает.
Для того чтобы описанный в этой статье рецепт можно было применить в России, ее, Россию, придется сначала переучредить на каких-нибудь непопулярных сегодня началах. Вроде народовластия, местного самоуправления, свободы слова и собраний, прямых, равных, тайных и так далее etc . Время придумывать, как сделать так, чтобы писатели хорошо жили на зарплату писателя, а читатели по-русски читали больше книг, чем читатели на других языках, — оно, разумеется, придет, но его приход займет некоторое время. Можно употребить его на то, чтобы понять, как работает норвежский социалистический литературоцентризм. На то, чтобы понять, как в США обходятся без министерства культуры. Или как должен функционировать русский аналог Института Гете (Британского совета).
Все это понимание однажды понадобится — и, возможно, куда скорее, чем кажется.
Станислав Львовский
Коментарі
Останні події
- 05.11.2025|18:42«Столик з видом на Кремль»: до Луцька завітає один із найвідоміших журналістів сучасної Польщі
- 04.11.2025|10:54Слова загублені й віднайдені: розмова про фемінізм в житті й літературі
- 03.11.2025|18:29Оголошено довгий список номінантів на Премію імені Юрія Шевельова 2025: 13 видань змагаються за звання найкращої книжки есеїстики
- 03.11.2025|10:42"Старий Лев" запрошує на майстер-клас з наукових експериментів за книгою "Енергія. Наука довкола нас"
- 03.11.2025|10:28Юлія Чернінька презентує «Бестселер у борг» в Івано-Франківську
- 02.11.2025|09:55У Львові вийшов 7-й том Антології патріотичної поезії «ВИБУХОВІ СЛОВА»
- 30.10.2025|12:41Юний феномен: 12-річний Ілля Отрошенко із Сум став наймолодшим автором трилогії в Україні
- 30.10.2025|12:32Фантастичні результати «єКниги»: 359 тисяч проданих книг та 200 тисяч молодих читачів за три квартали 2025 року
- 30.10.2025|12:18Новий кліп Павла Табакова «Вона не знає молитви» — вражаюча історія кохання, натхненна поезією Мар´яни Савки
- 30.10.2025|12:15«Енергія. Наука довкола нас»: Старий Лев запрошує юних читачів на наукові експерименти